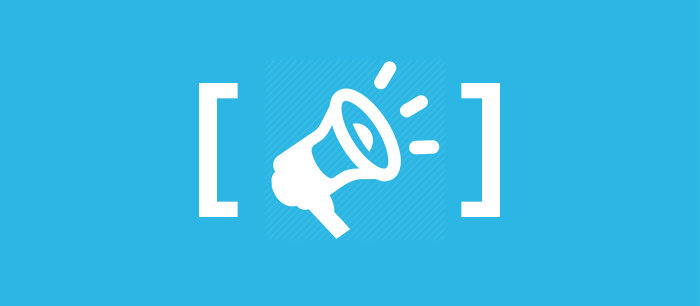Почему картина Караваджо «Призвание апостола Матфея» революционна для своего времени? Что нового привносит художник в традиционную иконографию? Как он работает со светом? Как показывает героев? Как цитирует классиков? О картине Караваджо «Призвание апостола Матфея» рассказывает кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории искусства ФИИ РГГУ Иван Абрамкин.
Подготовительный курс для абитуриентов магистерской программы «Зарубежное искусство XV — XX веков: контексты и интерпретации
В школе ХПМТ Иван Александрович вместе с другими университетскими преподавателями готовит абитуриентов к поступлению на магистерскую программу «Зарубежное искусство XV — XX веков: контексты и интерпретации» и читает блок лекций по европейскому искусству XVII- XVIII веков.

Иван АБРАМКИН,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории и истории искусства ФИИ РГГУ
— Караваджо изображает сцену со сборщиками податей не на улице Рима и не на фоне колонн, как это делали академисты, а в трактире — в среде, хорошо знакомой художнику, будничной и понятной.
Сборщики податей подсчитывают выручку, когда в трактир входят Христос с Петром. Христос привносит в композицию свет: возникает диагональный луч, который делит мир на две части.
Важно понять, что означает свет в картинах Караваджо.
У художника свет обладает целостным, монументальным характером; он трактует его одновременно просто и всеобъемлюще. Это и материальный элемент, определяющий композицию, освещение и режиссуру, и духовное явление, раскрывающее смысл сюжета — луч, который навсегда изменит жизнь Матфея. В этом сочетании материального и духовного, в гениальной композиционной режиссуре и заключается феномен Караваджо.
Сборщики податей подсчитывают выручку, когда в трактир входят Христос с Петром. Христос привносит в композицию свет: возникает диагональный луч, который делит мир на две части.
Важно понять, что означает свет в картинах Караваджо.
У художника свет обладает целостным, монументальным характером; он трактует его одновременно просто и всеобъемлюще. Это и материальный элемент, определяющий композицию, освещение и режиссуру, и духовное явление, раскрывающее смысл сюжета — луч, который навсегда изменит жизнь Матфея. В этом сочетании материального и духовного, в гениальной композиционной режиссуре и заключается феномен Караваджо.

Умный художник никогда не будет отвергать традицию полностью. Для него она — неисчерпаемый, бесконечный источник мотивов. Рука Христа на картине Караваджо — это отсылка к «Сотворению Адама» Микеланджело. Посмотрите, как уместно, тонко и интересно она переосмыслена. Она разграничивает два мира: мир сборщиков податей и явление Христа.
В фигуре Христа, с рукой, замершей в пустоте, — и сила, и легкость; она выполнена одновременно монументально и невесомо. Художник избегает портретной конкретики в образе Бога, используя кьяроскуро, контрасты света и тени.
В фигуре Христа, с рукой, замершей в пустоте, — и сила, и легкость; она выполнена одновременно монументально и невесомо. Художник избегает портретной конкретики в образе Бога, используя кьяроскуро, контрасты света и тени.

Но главное в картине — другое. Попробую объяснить на примере кино, в чём заключается революционный смысл этой работы Караваджо для мировой живописи. До него художники изображали сцены так, будто герои знали, чем закончится история. Например, если по сюжету фильма вы сегодня поссорились с кем-то, но знаете, что через несколько дней этот человек станет вашим возлюбленным или, наоборот, злейшим врагом. Художники закладывали «знание будущего» в трактовку персонажей: герои, осведомлённые о скором появлении Христа, выглядели прекрасными, вели себя благородно и достойно. Герои Караваджо не знают дальнейшего сценария — им выдали текст только для ближайшей сцены.
Посмотрим, как это выглядит на картине. Двое сборщиков увлечены своими делами, им, в сущности, все равно кто там заходит в таверну. На дверь смотрит с удивлением Матфей и еще два человека: один с тихим вниманием, второй — сидит спиной и разворачивается в сторону двери, можно сказать, даже нахально.
Посмотрим, как это выглядит на картине. Двое сборщиков увлечены своими делами, им, в сущности, все равно кто там заходит в таверну. На дверь смотрит с удивлением Матфей и еще два человека: один с тихим вниманием, второй — сидит спиной и разворачивается в сторону двери, можно сказать, даже нахально.


Чтобы прояснить смысл момента, представьте: вы договорились встретиться с друзьями в восемь вечера, заранее арендовали зал в кафе или ресторане. К восьми вы пришли, сидите спиной к двери, а через час, около девяти, кто-то ещё заходит. Вы оборачиваетесь и говорите:
— Ну, кто там?
А там — Христос.
Вот что делает Караваджо. Он показывает зрителям сцену в реальном времени. Его герои не знают, что заходит Христос, что Матфей будет обращён; они не догадываются, что их ждёт дальше.
В этом и заключается революционность Караваджо: он акцентирует конкретный момент, изображает сцены «в прямом эфире». Это меняет всю традиционную иконографию. Такой подход становится источником проблем художника с заказчиками, потому что может показывать героев неожиданно, даже нелицеприятно. Если художники прошлого идеализировали сцены и усредняли трактовку образов, то у Караваджо персонажи ведут себя естественно: мы видим разнообразие реакций, а их поведение прописано с невероятной для живописи того времени детализацией.
— Ну, кто там?
А там — Христос.
Вот что делает Караваджо. Он показывает зрителям сцену в реальном времени. Его герои не знают, что заходит Христос, что Матфей будет обращён; они не догадываются, что их ждёт дальше.
В этом и заключается революционность Караваджо: он акцентирует конкретный момент, изображает сцены «в прямом эфире». Это меняет всю традиционную иконографию. Такой подход становится источником проблем художника с заказчиками, потому что может показывать героев неожиданно, даже нелицеприятно. Если художники прошлого идеализировали сцены и усредняли трактовку образов, то у Караваджо персонажи ведут себя естественно: мы видим разнообразие реакций, а их поведение прописано с невероятной для живописи того времени детализацией.
Подготовительный курс для абитуриентов магистерской программы «Зарубежное искусство XV — XX веков: контексты и интерпретации